Почему России нужно найти сильных врагов, которые её не предадут
***
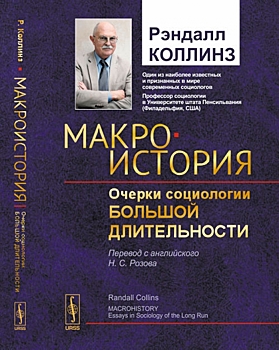
Коллинз Рэндалл. Макроистория: Очерки социологии большой длительности. М: URSS, 2021
Нашей стране постоянно мешают. Запад мешает ей развиваться; бывшие союзники мешают восстановить былое величие; оппозиция мешает достичь единства и патриотической мобилизации. О боже! Заключите российское государство в скорлупу ореха, и оно наконец сможет осуществить… Что? Коммунизм? Полную приватизацию? Майские указы? Статус-кво?
Конечно, внешние и внутренние конфликты разрушали великие империи. Но наивно полагать, что отсутствие противоречий означает устойчивое, целенаправленное развитие. Однажды мир достигнет достаточно разумного и динамичного народного управления. А пока что, как и всю предшествовавшую историю, государство (экономика, общество) развивается, адаптируясь к новым вызовам и новым соотношениям сил. Если великие империи и рушились, то отнюдь не в момент своего расцвета (пусть и под грузом завоёванных территорий). Вопреки предсказаниям антиутопий, даже самые жёсткие системы контроля и угнетения не достигли столь устойчивой «автаркии», чтобы увековечить свою «стабильность».
Идея, что конфликты связаны с динамикой жизни и могут нести благо, давно известна в искусстве и теории революции. Важно, что сегодня её признали даже такие прагматичные и консервативные дисциплины, как теория элит и геополитика. Исследователи пришли к парадоксальному выводу: обхитрить или победить всех, навязать окружающим свою волю — политика, обречённая на провал. Успех отдельного государства лучше связывать с балансом целой сети противоречивых взаимоотношений — как с другими странами, так и с группами во внутренней политике. Именно решение этой задачи ведёт к усложнению культуры, этики, методов управления и т. д., а не примитивное стремление подавить всех несогласных.
Социолог из США Рэндалл Коллинз в книге «Макроистория: Очерки социологии большой длительности» показывает, как постоянное противостояние государств, классов и элитных групп толкало вперёд историю экономики, государства, культуры, языка, национализма и демократии; причём не только в «прогрессивной» Европе, но и по всему миру.
Автор утверждает, что общественные науки в целом подошли к невозможности рассматривать историю одной страны в отдельности от более крупных международных систем. Национальные истории сильно тяготели к телеологии, т. е. к детерминированности каким-то изначальными особенностями культуры (или, как показано у Нисбета, — божественным замыслом, природой, судьбой): Англии было предначертано стать демократией, а Германия всегда стремилась к нацистской диктатуре. Иначе сложно было объяснить, как страны, шедшие по схожему пути, получали столь разные результаты.
Однако, как заметили марксисты, страны вынуждены занимать определённые неравные места в мировой системе. Допустим, государства А и Б идут по пути капиталистического развития; но сама логика экспансии капитализма и разделения труда требует, чтобы с какого-то момента одна страна стала «центром» (метрополией), а другая — «периферией» (колонией). Даже если в этом разделении сыграла минутная удача, дальнейшие пути государств сильно разойдутся. Через сто лет можно будет утверждать, будто проигравшая Б никогда и не шла по капиталистическому пути, так как фундаментально ущербна. Нечто подобное, как показывает Коллинз на примерах Китая, Египта и Германии, произошло не только с незападным миром, но и с некоторыми западными странами. Англия стала центром мировой капиталистической системы только к 1820-м годам; ещё 100 лет назад (как и 50 лет спустя) Пруссия с другими германскими территориями имели сопоставимую экономику и были впереди в культуре и образовании. Долгое время передовой страной мира вообще был Китай; именно перенятые из него институты (вроде буддистских храмов с развитой коммерцией и армией) стали основой для успешной модернизации Японии.
Коллинз замечает, что левая теория, объединяемая в книге термином «миросистема», сумела объединить огромное количество и локальных, и специализированных, и общетеоретических исследований, выходящих далеко за пределы западного мира. Однако сам автор считает миросистемный подход недостаточно обоснованным (несмотря на интеграцию стольких исследований?) и предпочитает методологию геополитики, разработанную преимущественно Тедой Скочпол и Джеком Голдстоуном, но опирающуюся во многом на тот же массив исследований. Коллинз признаёт также сильное влияние Маркса и идей Вебера.
Самым спорным в теории автора является фундаментальное значение, отводимое фактору войны. По этому вопросу взгляды Скочпол и Голдстоуна радикально расходились; последний доказывал, что не все революции были связаны с военным поражением, как и не всякое военное поражение означало крах государства. Ссылки здесь на Чарльза Тилли также некорректны, так как этот социолог не только получил поток критики за свою военно-центрированную историю западных государств, но и в остальных трудах концентрировался на коллективном действии и внутренней политике. Сам Коллинз бросается из крайности в крайность — возможно, путаница связана с тем, что книга основана на ряде статей разных лет.
В некоторых местах война объявляется главной движущей силой, причём история оказывается жёстко детерминирована взаимным расположением государств, их ресурсами, величиной и т. д. Коллинз здесь впадает в критикуемый им грех структурализма: обладая столь жёсткой системой правил и взяв некую начальную точку, в которой немногие значимые параметры полностью известны, можно просчитать всю дальнейшую историю. Одним из следствий этой позиции оказывается то, что все внутренние факторы, необходимые для изменений (группы, на которые раскалывается элита; массовые движения, способные к мобилизации; ростки новых форм организации и т. д.) как бы магическим образом создаются в тот момент, когда их наличия требует геополитическая конъюнктура.
В частности, этим грешит якобы успешное (хотя неверное по срокам) предсказание краха СССР. Обязательным элементом модели является массовая мобилизация — и Коллинз ничтоже сумняшеся записывает сюда: освобождённых диссидентов, народные съезды (даже если съезд народных депутатов СССР до последнего голосовал против отмены руководящей роли КПСС), абстрактную «открытость в союзных республиках». По сути же всё держится на банальной идее меньших человеческих и экономических ресурсов соцблока, а также слишком больших затрат СССР на ВПК. Ещё меньше автор может сказать о том, что нужно для дальнейшей демократизации России. «Если геополитические условия будут способствовать установлению некой федеральной структуры альянсов вокруг ослабленного российского государства», то исторически федеративное устройство породит все необходимые внутренние силы и балансы?..
С другой стороны, в модель проникает элемент случайности. Коллинз признаёт, что одни количественные характеристики не позволяют предсказывать исход сражений и тем более войн. Потому военные победы и поражения принимаются за случайный фактор: мол, если страна победила, то она внезапно укрепляет свои геополитические позиции; если нет — то предыдущий благоприятный прогноз нужно существенно скорректировать. Да и важность конкретных побед и поражений для «престижа» страны или консолидации элит мы можем оценить только постфактум. Коллинз впадает здесь в одну из иллюзий элитного национализма — якобы пафос войны полностью захватывает умы простых людей (но, конечно, не расчётливых элит), вытесняя любые другие интересы и проблемы; несостоятельность этой точки зрения показывал Эрик Хобсбаум в том числе на примере писем с фронта. Шире, речь идёт об устаревших примитивных теориях воздействия информации и пропаганды.
Несложно заметить (как отмечает сам Коллинз в других главах), что перечисленные «случайности» во многом обусловлены внутренними факторами: экономикой, управлением, наличием «третьих сил», которые по всё той же геополитической теории должны воспользоваться ситуацией, формированием альтернативных укладов (и политических проектов), на которые может перейти проигравшая система.
Вероятно, противоречия снимаются так. Все приводимые авторы согласны, что непосредственные проблемы возникают из дефицита государственного бюджета. Войны были значительной составляющей государства (и, как подчёркивает Коллинз, основной статьёй его бюджета) на протяжении почти всей его истории. Военная мобилизация и налоги, одновременно собираемые военной силой и шедшие на укрепление этой военной силы, обеспечили развитие централизации, бюрократизации и гражданства. Как ВПК всегда зависел от развития экономики, так и в экономику вкладывались во многом в интересах ВПК (или иных форм производства для армии). Наконец, победы и поражения в войне были яркими свидетельствами совокупной силы страны, либо раздирающих её противоречий.
Однако, как отмечается в книге, государства в своём развитии обрастали новыми функциями, в первую очередь экономическими и социальными. Даже в бюджете армия занимает сегодня принципиально меньшее место, чем в условном XIX веке; военные завоевания приносят государству гораздо меньше денег, чем экспансия капитала. Экономический, финансовый, социальный, идеологический престиж — всё это становится большим фактором международного влияния, чем прямая военная победа (цена и риски которой взлетели до небес, особенно из-за ядерного оружия). Косвенно это отразилось в популярности концепций «мягкой силы» или «информационной войны».
Короче говоря, бюджет и легитимность современного развитого государства зависит отнюдь не только от войны, что повышает значимость как внутренних факторов, так и экономической логики мирового капитализма (а не простого военного потенциала стран). Довольно логично, что макросоциология Коллинза, опирающаяся на длинные исторические ряды, даёт сбой при описании относительно недавней новизны. Собственно, только впадая в критикуемый автором структурализм, можно предположить, что сами исторические паттерны и набор значимых факторов не будут со временем изменяться, в том числе совершая качественные скачки. По сути, именно к этому приходят такие разные исследователи, как Ричард Лахман (подчёркивающий недавний качественный переход государства от нестабильной военной организации к регулярному управлению) и Дарон Аджемоглу (прослеживающий взаимное влияние массовой низовой организации и государства, ведущее к качественным изменениям функций последнего).
Эта схема подтверждается, пожалуй, самой интересной и остроумной главой книги, в которой Коллинз пытается осмыслить историческое развитие с позиций марксизма и экономической динамики. Автор заявляет, что вместо противоречий в способе производства продуктивней будет рассматривать противоречия расширения рынка. Хотя большую часть истории сфера рыночного обмена составляла меньшую часть экономики, но она однозначно была самой динамичной, определяющей направления роста/развития и потому ответственной за изменения в обществе (и особенно в государстве). Автор выделяет несколько доминирующих рыночных систем: рынок родства (предметом обмена и инвестиций были женщины и сыновья), рынок рабов (непосредственными «производителями» выступали солдаты, захватывавшие и обменивавшие рабов), аграрно-принудительный рынок (обмен земли и её продуктов при низкой мобильности зависимых крестьян) и капиталистический товарный рынок. В Азии и исламском мире существовали вариации этих типов, имевшие свою динамику, но в конечном итоге интегрированные в капитализм.
Соответствующие рынки расширялись, приносили меньшинству сверхбогатства — пока не достигали предела роста (как из-за недостатка «свободных» ресурсов, так и из-за усиления антагонистичных сил, порождаемых экспансией) и не рушились в результате столкновения «выигравших» и «проигравших». Затем рост переходил на иное направление, развивавшееся в недрах старого и становившееся доминирующим. Стоит отметить, что доминирующий рынок, по Коллинзу, создаёт систему ниже‑ и вышестоящих рынков (например, военные походы за рабами порождают рынок инвестиций и ставок на успех таких походов; у военачальников появляются «спонсоры»), которые ускоряют и рост, и падение всей системы.
Впрочем, Коллинз сознательно преувеличивает свои расхождения с марксизмом. Сами доступные рынки прямо зависят от развития производительных сил и соответствуют определённым производственным отношениям. Моменты исчерпания рынков и кризиса системы автор явно описывает как обострение классовых противоречий — хотя само выделение основных классов у Коллинза весьма остроумно. Например, развитие рынка рабов порождало слой солдат, лишавшихся собственности на оружие (а также оставшиеся в тылу земельные владения, которые присваивались элитами и обрабатывались прото-крепостными) и низводимых до своеобразного пролетариата, «производящего» рабов. Особенно тяжёлым было положение таких воинов, создаваемых на втягиваемой в рынок периферии (будущей основы варварских вторжений в Рим — при том, что те же варвары к тому моменту состояли и в римской армии).
Хотя по факту самые эксплуатируемые слои — рабы и женщины — не восставали (по крайней мере, достаточно массово) — восстания солдат, особенно на периферии, кажутся автору определяющими для перехода к новой системе. Важен и другой вывод Коллинза: геополитические трудности создаются (и вообще имеют смысл) в рамках динамики конкретного рынка, организующего мировую периферию и центр. Стоит отметить подробное исследование в книге протокапиталистических отношений в христианских и буддистских монастырях (в которые вкладывала деньги аристократия ради престижа и ради ухода от государственных налогов), охватывающее и «протестантскую этику» Вебера, и его критиков. А также описание перехода от аграрно-принудительной системы к капиталистической, дополняющее Перри Андерсона: здесь Коллинз вскользь затрагивает роль централизованного бюрократического государства в развитии рынков, уравновешивающуюся низовыми восстаниями.
Впрочем, обрывочные описания автором современного капиталистического рынка вызывают лишь недоумение. Социалистическому строю уделяется буквально пара фраз, безапелляционно относящих его к сопротивлению аграрно-принудительной системы, перенесённой на промышленность. Это звучит особенно дико в свете постоянных обвинений большевиков в идеализации организации западных крупных заводов, а также в свете фордизма-кейнсианства. После долгих рассуждений про многомерные «континуумы» демократии и экономического устройства, про преувеличение свободы и демократизации одних стран при сознательном принижении других — сложно не обвинить Коллинза в лицемерии. Зато автор успевает выдать такой перл: «преднамеренное и управляемое сверху развитие не имеет собственного направления». В отличие, конечно, от хаотичного капиталистического рынка. Далее следует аргумент про недостаток движущих сил для расширения и инноваций — против сверхдержавы, полетевшей в космос. И т. д.
Лишь в самом конце, после гимнов безграничной способности капитализма расширяться и создавать вышестоящие рынки (фьючерсы, фьючерсы фьючерсов, фьючерсы фьючерсов фьючерсов…), Коллинз спохватывается и напоминает, что вообще-то макросоциология считает, что всё не вечно и капитализм, скорее раньше, чем позже, претерпит очередную трансформацию — правда, её направление геополитика предположить не способна. К счастью, именно проблемам расширения капиталистического рынка посвящена значительная часть вдохновлённых марксизмом трудов: можно вспомнить анализ кризиса перепроизводства на новом этапе у Харви или размышления про новые рынки и источники прибавочной стоимости у Пола Мэйсона. Им вторят и более общие работы — например, замена реального развития иллюзорным у Ручира Шармы, влияние автоматизации на новые сферы и рынки у Дэниела Сасскинда или накопление рынками ошибок из-за «липкости» экономики у Абхиджита Банерджи и Эстер Дюфло.
В общем, главы, в которых автор действительно пытается вписать геополитическую логику в марксистский анализ мировой экономической системы, оказываются весьма содержательными и позволяющими преодолеть некоторые традиционные затруднения революционной историографии (вроде малой численности рабов в «рабовладельческой» формации, переходов в и из Античности, и т. д.). К счастью, места, в которых Коллинз впадает в военный детерминизм или в гегельянский экстаз капиталистического «конца истории», встречаются не столь часто и плохо интегрируются в заявленный метод.