Для литературы существует табу
Когда-то давным-давно, когда я был совсем маленьким и учился в школе, прочитал я небольшую брошюрку под редакцией профессора Ермакова (как сейчас помню) и запомнил название «Тотем и табу», и узнал, что есть на свете такой великий ученый, как Зигмунд Фрейд, автор этой брошюрки. А содержание я не запомнил: помню только, что инцест это не просто плохо, а за гранью понимания для нормального человека. И это плохо и за гранью у всех организованных и цивилизованных народов. А вот про табу и про тотем ничего не запомнил, а порассуждать на эту тему, но уже применительно к литературе, захотелось – вот и оправдываюсь.
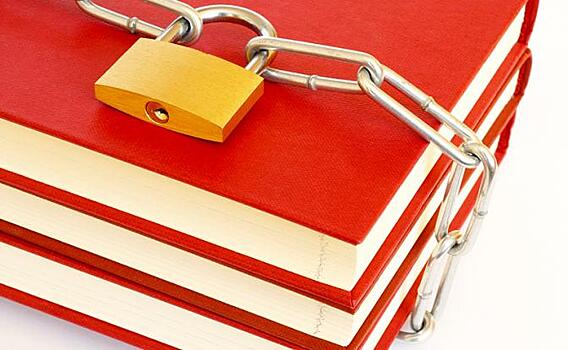
До чего же хороши редактора крупных издательств и толстых журналов, прошедшие советскую выучку: они помнят о существовании брошюрки с грифом «СЕКРЕТНО» «Перечень сведений запрещенных к публикации в открытой печати» и отлично знают, что такое табуированные темы. Многие из нас изучали это пособие и давали подписку «о неразглашении», и помним мы, что у нас в стране есть не только закрытые территории и города, но и закрытые институты и производства, и закрытые защиты диссертаций, и закрытые процессы и тому подобное.
Несколько сотен параграфов этой книги запрещали освещать в средствах массовой информации, а следовательно и в литературе, темы, связанные с обороной страны, трагическими катастрофами с человеческими жертвами и эпидемиям опасных инфекционных заболеваний в различных регионах. Но был и последний параграф – он запрещал упоминать о существовании цензуры в нашей стране. А вот персон, по долгу службы изучавших и отвергавших литературные произведения, как когда-то это случалось с текстами Пушкина, Достоевского, Блока, у нас в советской стране не было. То есть персоны такие были, но должности у них были не соответствующие. И это очень важно: таким образом выстраивался цензор в голове любого редактора, да и любого творческого человека.
И этот внутренний цензор работал очень продуктивно и очень надёжно. Редко, очень редко приходилось одёргивать «для порядка» отдельных «художников» через обкомы партии или через министерство культуры, указывая на «буржуазность» Анне Ахматовой и Михаилу Зощенко или на «предательский космополитизм» Бориса Пастернака.
Я уж и не говорю о ненормативной лексике – это собственность и прерогатива других социальных слоёв, и размывать границы между художественной литературой и пьяной подзаборной бранью не следует никогда. Нельзя разрушать существующую «экосистему национального языка» – можно выразиться так, потому что разрушение любой устоявшейся системы чревато непредсказуемыми последствиями в совершенно других областях человеческой деятельности.
У каждой социальной группы нашего очень пёстрого общества существует свой негласно утвержденный корпус специальных терминов, по которым можно определить принадлежность вашего собеседника и к месту проживания, и к роду профессиональной деятельности. Такие жаргонизмы, часто принадлежащие лишь определенным территориям и группам, хотя и включаются в большие словари национальных языков, могут быть не поняты, если будут использованы в качестве общеупотребимых, хотя иногда, со временем, некоторые из них в силу каких-то обстоятельств переходят из диалектных в общенациональные. Профессор Хиггинс, герой «Пигмалиона» Бернарда Шоу мог по выговору угадать не только из какого графства Англии, но и из какого района Лондона прибыл тот или иной человек. Так же по тонким деталям «блатной фени» опытные жулики, сидючи в тюрьме, определяют – из какого лагеря к ним прибыл новичок.
Мы все знаем, как сильно отличаются выговоры уроженцев южных областей России от речи северян, и легко отличаем москвича с его «аканьем» от нижегородца, ворочающего на «о». Более того – мой старший товарищ, профессор Александр Канцедикас заметил мне как-то раз, что я дома, то есть в городе Нижнем Новгороде, говорю по-нижегородски, а, приезжая в Москву, перехожу на московский выговор. Понимание этого разнообразия языка, даёт дополнительную окраску любому художественному тексту, и в то же время, налагает ответственность на автора в плане необходимости его правильного использования.
И это – прекрасно, и не надо нивелировать эти оттенки. Именно этот немаловажный факт дал право Владимиру Ивановичу Далю, составлявшему свой гениальный словарь, назвать наш язык живым и великорусским.
Но вот ушел в прошлое так называемый «тоталитарный режим», контролировавший всё и вся, и хлынул поток этой, чуждой литературе, грязи и матерщины на страницы книг. И вот уже вытаскиваются и смакуются «Заветные сказки» Даля, «Юнкерские поэмы» Лермонтова и скабрёзные стишки Баркова – только забывают почему-то издатели, что сами авторы при жизни стеснялись этих своих творений и широкой публике не предъявляли, а часто и доказать это легендарное авторство невозможно.
А вот новые писатели… Бог им судья, авторам, получающим наслаждение от обнюхивания чужих обгаженных трусов и публично радующимся этим своим новым, только что открытым, эмоциям. С каким упоением они делятся с читателем, используя заборную лексику, сомнительными по свежести и пристойности, фактами – не хочу перечислять их фамилии, много чести, и имя им легион. Хотя существование амбивалентности верха и низа в литературе очень подробно разработал М. М. Бахтин в своей монографии, посвященной творчеству Франсуа Рабле, и пользоваться ей не страшно, при определённых способностях литератора.
Волнует другое.
Некоторое время назад я, любопытства ради, произвёл собственный опрос среди своих друзей и знакомых с совершенно различным социальным статусом: от профессоров до полуграмотных маргиналов, от пенсионеров и до школьников. Вопрос был простой: «А за что вы могли бы ударить по лицу незнакомого человека или, может быть, даже взяться за оружие, чтобы отомстить за оскорбление?» И никакой фантазии у опрашиваемых не обнаружилось! Ответов было всего три – три сюжета в разных модификациях. Оказалось, что глубоко оскорбить человека и вызвать у него настоящую ненависть с желанием отомстить можно: во-первых, нарочито гадко или не лестно отозвавшись о его маме, а так же о его других близких родственниках, во-вторых неуважительно высказавшись о его вере и его религии и в-третьих, унизительно отозвавшись о его родной деревне, Родине и родном языке. Вопрос национальной розни может соприкасаться с любой из перечисленных причин. И эти темы – святые, они – тотемны, а, следовательно, и табуированы. Использовать их можно с большой осторожностью, а кому ни попадя и вообще не рекомендуется.
Тотемность подразумевает некую святость или сакральность вполне определённой темы или конкретного предмета для всем известной группы лиц, и касаться её в разговоре может, следовательно, только посвященный. Русский язык – живой язык, и в нем меняется не только смысл, но и место и право использования. Так в 19-м веке и Достоевский, и Гоголь употребляли слово «жид» без сомнения. А в наше время этим термином я, как и большинство образованных людей, пользоваться поостерегусь. Без оглядки его могут употреблять только авторы специфического статуса (я так это назову!). К остальным и редакторы, и читатели будут относиться с особым вниманием. Можно привести и обратные примеры.
Кстати, кое-кто до сих пор считает, что кровопролитие в Донбассе произошло из-за запрета использовать его жителям родного языка. Но, если кто-то считает, что такая причина смехотворно мала для начала братоубийственной войны, то пусть спроецируют эту ситуацию на нашу страну: представим, что законодательно в Казани будет запрещен татарский язык, и что мы получим?
Язык – основа национальной культуры, а культура – это привычка. Разрушать привычный образ жизни – ой, как чревато! Можно привести ряд примеров, когда солидный писатель изменял своему родному языку, и в этом ничего постыдного нет, это делалось для того, чтобы получить иную, новую аудиторию. Примеры? – Джозеф Конрад, Иосиф Бродский, и тот же Набоков с его «Лолитой», которую он написал по-английски. Кстати, попытавшись перевести со своего английского на свой родной русский язык, нашумевший к тому времени роман, Набоков столкнулся с трудностями. У него это плохо получилось, по его собственному признанию. Потому, что он писал роман для англоязычной аудитории с её культурными традициями, а русский читатель не способен оценить мотивацию некоторых поступков, естественных для урожденного англосакса, а в этимологии многих терминов скрыта история или ирония, понятная лишь носителю языка. По признанию Набокова, при переводе на русский язык, ему казалось, что ему не хватает русских слов.
В большинстве случаев, профессиональный писатель представляет себе свою читательскую аудиторию, но и «профессиональный читатель» почти всегда может угадать – а на кого рассчитан данный текст. И отвечает ли автор на сиюминутный социальный запрос, и хочет ли автор добра и счастья своей Родине – понятно сразу. А вот – пишет ли он мировой бестселлер, который будет переведен на сорок языков, и будут ли его творение читать через столетия – не ответит никто. Но, если в литературном произведении мимодумно затрагиваются со спорным толкованием табуированные темы, художник ищет крови. И это – очевидно! И автор, безусловно, тоже про это помнит.