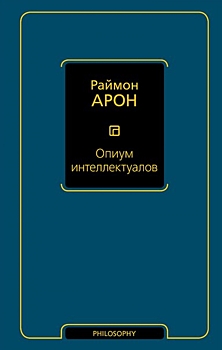Аполитичность, апатия и смерть: три столпа мирового порядка
Раймон Арон: Опиум интеллектуалов. М.: АСТ, 2015 В мировой культуре укоренено множество «вечных» вопросов. Можно подумать, что суть их — в «неразрешимости», непознаваемости отдельным человеком. В абстрактной форме это действительно так. Однако некоторые вопросы остаются вечными и волнующими, потому что мы постоянно вынуждены встречать и разрешать их в деятельности: жизнь становится той или другой в зависимости от наших ответов, личных и коллективных. Потому, можно сказать, вечные вопросы всегда имеют политическое измерение. Одной из давних человеческих проблем является выбор (кажущийся) между «покоем» и «борьбой». Блок и Маяковский воспевали одно, Лермонтов и Булгаков — другое. Парадоксом покоя является то, что он не существует сам по себе, «по-умолчанию»: его нужно найти, заслужить, добиться. Для авторов, воспевающих бой, успокоение наступает после победы, когда её плодами хочется насладиться. Такова трагедия освободителей и революционеров, как Данко выводящих народ из леса и становящихся ненужными, излишне «напряжными» и даже опасными для спокойной жизни. Покой хрупок и недолговечен; но кто же нарушает его? Злой демиург? Людская природа? Или слишком живучий Данко, соблазняющий малых сих?.. Переформулируем вопрос более практично: в какой момент гражданам нужно раскачивать лодку, давить на систему, требовать изменений к лучшему (и стоит ли вообще)? Не является ли протест лишь вредной фантазией, помехой спокойному течению жизни? Не нужно ли просто лучше работать, а не диссидентствовать? Позиция эта отстаивалась не только консервативными политиками, но и философами — вроде француза Раймона Арона, либерала, после начала Холодной войны выступившего с принципиальной критикой левой политики в книге «Опиум интеллектуалов». Описанная в ней логика достаточно поверхностна и обща, чтобы (к сожалению) не устаревать. Основная идея автора проста: современное (для 1955 года) капиталистическое государство является наилучшей формой существования общества, и всякое отклонение от него (от протеста, мешающего его функционированию, до революции) сделает жизнь только хуже. Правда, Арон признаёт, что сам капитализм возник в результате революций и свержения феодализма; более того, капитализм постоянно и качественно изменяется. Однако речь идёт о чём-то вроде «устойчивого развития» или фаустианского «прекрасного мгновения»: раз установленный порядок, который сам эволюционирует по наилучшей траектории. В примерах автор не оригинален: США. Для Арона, критикующего якобы социалистические представления об идеально-ровном течении истории, Соединённые Штаты представляются примером такого ровного развития капитализма. Так, автор предпочитает не замечать двусмысленности недавнего президента США Франклина Рузвельта и его просоветского вице-президента Генри Уоллеса, возвышение которых стало возможным как компромисс в ситуации одновременной радикализации профсоюзов и усиления фашистских движений. Казалось бы, рузвельтовская внутренняя и внешняя политики имели мало общего с линией правящего в 1955 году Эйзенхауэра; однако для Арона всё это — одно и то же. В принципе, на этом примеры заканчиваются: парадоксальным образом, все остальные страны (даже с такой натяжкой, как в случае США) не соответствуют оптимальному устройству. Европу «штормит» из-за критикуемых Ароном левых интеллектуалов: автор постоянно подчёркивает, что их идеи бесплодны, за ними нет массовой поддержки и т. д., но, одновременно, они оказываются достаточно могущественны, чтобы не давать Европе нормально развиваться (риторика «пятой колонны» никогда не устаревает). Про Японию и остальную «Азию» и говорить нечего: нецивилизованность, деспотизм, слепое (но почему-то выборочное!) использование советского опыта… Арон начинает книгу с ценной идеи: разделение на «левое» и «правое» стало слишком условным, пропагандистским, манипуляторным; чтобы что-либо понять, необходимо, в духе Ленина, определённо размежеваться. Затем Арон смешивает в кучу всё: Ленина, Сталина и Троцкого (всё равно бы они пришли к одному результату!); экзистенциалистов и провокаторов-экстремистов; профсоюзы и леваков. Автор не анализирует ни мировую неравномерность развития, ни местные особенности и условия, очевидно, задающие некие рамки для развития идеального капитализма. Вообще, для него существует только «тоталитарный» СССР (который, конечно, на основании случайных внешних черт приравнивается к нацистской Германии), свободные США, некий скандинавский социализм (как призрак «здорово альтернативы», которому никогда не даётся внятного описания) и фантазийная утопия интеллектуалов (тот самый «опиум» — один на всех). Арона не посещает мысль, например, что благополучие США (видимое извне) может держаться на угнетении других стран. И что, соответственно, даже если бы Россия или Китай захотели приобщиться к этому благополучию — их путь лежал бы через авторитарное развитие. В общем, Арон не замечает то, что Жижек назвал бы пассивным системным насилием: необходимость угнетения, страдания и врага, на которых держится «нормальное» функционирование данного строя. Даже если относиться к этой несправедливости философски, невозможно утверждать, что в основании порядка лежит «покой» и «устойчивое развитие», а не борьба. И что покой может распространиться на всех — как не могут в конкурентной системе капитализма все стать успешными предпринимателями, хотя капиталистическая идеология и предполагает, что такая мечта должна двигать всеми одновременно. В этой отповеди левым интеллектуалам есть один важный, но лишь вскользь проговариваемый элемент: «народ», широкие массы угнетённых классов. С одной стороны, Арон постоянно доказывает, что социалисты никому не интересны: все и всегда игнорировали их идеи. Автор идёт даже на прямую ложь, заявляя, что даже художественный авангард никогда не воспринимал всерьёз левые идеи. Арон, конечно, игнорирует русский опыт с Маяковским, Петровым-Водкиным, Блоком и т. д.; но ему приходится неуклюже доказывать отвращение к Советам французского поэта Луи Арагона. С другой — и это ключевой момент — автор не жалеет ненависти для революционных масс и, в особенности, низовой самоорганизации. Всякое массовое движения для него заканчивается Гитлером (или Сталиным, которых Арон не разделяет, похоже, не только следуя антисоветской конъюнктуре, но и ради обоснования опасности черни). Автор как бы показывает, что угнетённые (и это в известной мере справедливо!) обладают собственной динамикой, и наивно считать, что народ создан Богом для реализации интеллигентских утопий. Однако динамика эта рисуется Ароном чёрными красками: обывательщина, безответственность, тупая покорность, неспособность чем-либо управлять, страсть к разрушению. Грубо говоря, люди просто не хотят работать, надеются на самые вульгарные утопии, и потому каждый раз разочаровываются, когда рай сразу не наступает. Власть оказывается в руках узкой группы фанатиков, пытающихся заставить поникших духом людей строить неосуществимую утопию. Конечно, Маркс, призывавший к отмиранию государства при власти Советов, становится у Арона идеологом тоталитарной государственности. Вершиной данной логики становится тема нацизма: автор стыдливо и неубедительно уходит от вопроса о роли элиты и крупного капитала в становлении Гитлера (да, его спонсировали и ставили на должности, но это якобы не сыграло особой роли). Акцент делает на том, что лидер нацистов был выразителем чаяний народа, укоренённого в человеческой природе желания более лёгкой и изобильной жизни. Поскольку Арон доказывает, что социалистические утопии не находят отклика среди низов, можно сделать вывод, что народная душа жаждет именно нацизма; или, более осторожно, — её желания неизбежно порождают нацизм. Итого, вырисовывается следующая схема: безответственные фантазии левых интеллектуалов могут растормошить вульгарные фантазии масс, которые приведут к власти нацистов. Альтернативный путь: интеллектуалы должны отбросить фантазии и присоединиться к капиталистическому консенсусу, вести умеренную политику и ограждать массы от искушений. Но что получится, если рассмотреть, наоборот, замалчиваемые или принижаемые автором элементы? Идеальная стабильная капиталистическая система Арона — это предвзятый образ одного короткого момента в одном конкретном регионе, родившегося из суммы внешних и внутренних обстоятельств, судьба которого зависела от множества факторов. То, что представляется автору покоем и эволюцией, является временным балансом, достигнутым в противостоянии множества сил по всему земному шару. Крупный капитал и обуржуазившаяся аристократия по всему миру отнюдь не жили мирно: с конца XIX века они разыгрывали фашистскую карту. Их столкновение с различным сопротивлением профсоюзов, левых элементов истеблишмента, социал-демократии и т. д. в различных условиях и обстоятельствах, при влиянии тех или иных глобальных сил (угроза идеологического авторитета СССР, деньги или агрессия США) определяло, куда пойдёт страна — за Гитлером, за Рузвельтом, за Эйзенхауэром или за Кастро. Проклиная социалистов, коммунистов, низовые движения и самоорганизацию, апологеты капитализма отнюдь не восстанавливают «нейтралитет», покой и некое нормальное течение жизни. Они лишь убирают силу, удерживающую систему от ухода «вправо». Мы видим, как крах СССР, кризис левых и ослабление профсоюзов повлияли на мир: вместо стабильного (а потому ускоренного) развития повсеместно начался специфический регресс. Неравенство достигло чудовищных размеров; «социалка» сокращается; социальная мобильность (которой так кичится Арон) ликвидируется. Страны вроде России, пожелавшие стать «нормальными», мирно-капиталистическими, оказались загнаны на глубокую периферию; более авторитарные, критикуемые автором государства вроде Японии и Китая, ведущие свою игру — теснят «идеальные» США. Сами Соединённые Штаты ведут войну за войной, делают ставку на хаос, фундаментализм и ксенофобию, так и не обеспечив массу своих граждан даже нормальной медициной. Даже осторожно-нейтральный взгляд на вещи должен отметить ценность социалистов и коммунистов, позволяющих миру приходить в равновесие. Но может ли это равновесие быть целью левых? Не обязаны ли они максимально тянуть в свою сторону, чтобы уравновесить другие силы? Не к этой ли мысли приходит сейчас всё больше вчерашних умеренных либералов? Наконец, действительно ли судьба такого отчаянного противостояния — в том, чтобы обеспечить обществу стабильный капиталистический покой и постепенную эволюцию? Человечество развивалось скорее через революции и контрреволюции, переход от одной крайности к другой, качественные скачки. Противостояние разных сил не привело к созданию «стабильного» феодализма; оно породило капитализм. Почему же мы считаем, что путь к дальнейшим изменениям закрыт? Арон прав, что борьба за социализм в ХХ веке не принесла ожидаемых плодов. Но то же можно сказать про идеал капитализма. Это не значит, что оба направления были бесплодны. Борьба за свои права, интересы и идеалы необходима; представление, будто от неё можно просто односторонне отказаться — иллюзия (и идеологическая победа противника). Покой и стабильность также иллюзорны: общество не стоит на месте. Вопрос скорее в том, куда и насколько быстро оно движется. Потому в радикальных идеалах, даже если они и не осуществляются буквально, больше смысла, чем в спокойно-умеренных. Как писал Томас Манн, аполитичность — не нейтралитет, а одна из сторон конфликта. Арон и его последователи — апологеты именно такой «аполитичности». Раскусить её и занять позицию — вот что должно стоять на российской повестке дня. Читайте также: Как обычная жизнь приводит к катастрофе? Почему она обречена на катастрофу?