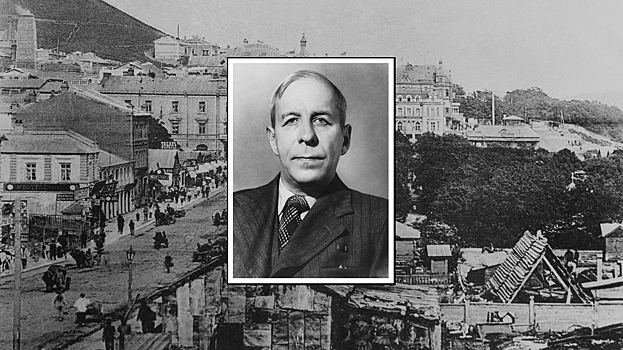«Бомба» для интервентов
«Город падал на меня с высоты сопок»В 1915 году Асеева — уроженца Льгова, экс-студента Московского и Харьковского университетов, уже выпустившего сборник стихов «Ночная флейта», — мобилизуют и после обучения в Мариуполе отправляют на австрийский фронт. В сентябре 1917 года, между двумя революциями, 28-летний член полкового Совета солдатских депутатов Асеев с эшелоном раненых попал в Иркутск, бросил армейскую службу и отправился во Владивосток. «Тридцать шесть дней в вагоне, набитом до отказа фронтовой человекообразной сельдью… И внезапно — конец, остановка, берег — дальше ехать некуда», — напишет он позже в очерке «Октябрь на Дальнем».Владивосток поэт увидел таким: «Город рушится лавиной с сопок в океан; город, высвистанный длинными губами тайфунов, вымытый, как кости скелета, сбегающей по его рёбрам водой затяжных дождей… Город падал на меня с высоты сопок; он кренился к морю стенами спадающих отрогов. Густо вплотную кипел вокруг меня незнакомый быт. Люди в синих длиннополых халатах обтекали меня сплошной массой. Они плевали, скалили белые зубы, жестикулировали… Я не понимал не только их слов, но и их интонаций… Непонятные фрукты и цветы окружали меня толпой. Чёрные поблёскивающие сланцем рогожи с трепангами расстилались у моих ног чудовищными пиршествами; розовые гирлянды огромных крабов висели на мачтах джонок. Всё было чуждо и враждебно мне".В асеевском очерке «У самого синего» находим ещё одно описание Владивостока на рубеже эпох: «Он был… типичным большим морским портом со всей специфичностью этого рода городов, экзотикой лиц, говоров, одежд, со множеством кабачков, игорных притонов, опиекурилен, весёлых домов; с визгом, гомоном доков, кранов, лебёдок и пароходных сирен… Видно было, что город возник ещё очень недавно: рядом с главной, собственно единственной улицей — Светланской, где дома слажены чисто и солидно, — крутые в сопки вздымающиеся проулки с наспех сбитыми лачугами, с домами-клоповниками, сплошь забитыми китайской беднотой… Двадцать пять лет тому назад на главной улице города, рассказывают старожилы, тигрица, вышедшая из тростников, схватила кули-китайца и ушла завтракать».Поэта поразил местный климат: «Ветры на Дальнем Востоке серьёзные… Идя против ветра, можно грудью ложиться на него, как на барьер… В ветер вкладываешься, как бурлак в лямку, и только тяжестью своего веса можно продвигаться вперёд. Ветер идёт густой стеклянной массой, подпирая тебя спереди, а дышать можно, только спрятав нос в рукав». Ещё более сильное впечатление оставили тайфуны: «Идёт тайфун, саженными плечами расталкивая всё на пути… Танец тайфуна упорен и слеп. Он может проплясать трое суток, не отдыхая… Город после его пляски просыпается, как с перепоя… Вообще тайфун любит по-своему устанавливать порядок. Делает он всё с явной насмешкой над людским установленным опытом».Вот асеевское описание местной осени: «Дикая прелесть Приморья со смоляной кедровой хвоей, заплетённая багряными стенами осенних листьев дикого винограда, зеленеющая круглоголовыми сопками, точно устланными коврами, чернеющая каменным углём, выпирающим прямо из стен вдоль полотна…» И зимы: «Во Владивостоке больших морозов не бывает. Море умягчает жестяную остроту ветров, хотя и при десяти-двенадцати градусах мороза тайфун прожжёт, прошьёт насквозь». «Балаганчик» в смутное времяВ городском Совете Асеев встретил революционера Петра Никифорова (в будущем — премьер-министр Дальневосточной республики, полпред СССР в Монголии). Тот как раз организовывал биржу труда и взял Асеева в помощники. На бирже, впрочем, поэт проработал недолго — устроился в газету «Дальневосточное обозрение», где публиковал фельетоны, отчёты, стихи:…Пусть краб — летописец поэм,пусть ветер — вишнёвый и вешний.А я его смачно поем,пурпурные выломав клешни!Вскоре Асеев приступил к созданию знаменитого впоследствии клуба «Балаганчик» в подвале здания на углу Светланской и Алеутской — в самом центре Владивостока (сейчас здесь располагается ресторан «Порто-Франко»).В Приморье от Гражданской войны стекались толпы беженцев, включая артистов, художников, поэтов. Приехали футуристы: критик Николай Чужак-Насимович, Сергей Третьяков (во Владивостоке он издаст свой первый сборник стихов «Железная пауза»), Давид Бурлюк (он напишет в Приморье «Морскую повесть» и множество картин). Асеев сошёлся с бывшим белым офицером, поэтом Арсением Несмеловым. Несмотря на различия во взглядах и биографиях, оба высоко ценили таланты друг друга. Поэтическая публика вращалась вокруг «Балаганчика». Возник журнал «Творчество», который заметили именитые москвичи — Осип Брик и Владимир Маяковский. «Чужак, Третьяков, Бурлюк, Алымов, художник Пальмов, Силлов, Петровская — это уже была литературная группа, вокруг которой можно было организовать культурные силы Приморья», — писал Асеев. Фактически Владивосток в те годы ненадолго стал одним из культурных центров страны.Ещё в 1918 году началась интервенция. После прихода во Владивосток английского крейсера «Суффолк», ставшего рядом с японским «Асахи», Асеев опубликовал стихи:…Ты, седовласый капитан,куда завёл своих матросов?Не замечал ли ты вопросовв очах холодных, как туман?Пусть желтолицый злобно туп,но ты, свободный англичанин,ужель не понял ты молчаний,струящихся со стольких губ?После «мятежа белочехов» и падения Советов поэт стал оппозиционным публицистом. «Мы с Третьяковым… вели в газете… политический фельетон под общим псевдонимом „Буль-Буль“. В нём… пощипывались интервенты, атаманы и всевозможные дальневосточные претенденты на всероссийскую власть, — вспоминал он. — Мы в городе, кишащем интервентами и контрразведчиками, чувствовали себя такими же литературными партизанами… делающими вылазки против беляков на литературном фронте». Ощущение литературного полуподполья, писал Асеев, «бодрило и поднимало силы».Борьба за власть продолжалась, переворот следовал за переворотом. В 1919 году поэт наблюдал неудачное восстание чехословацкого генерала Гайды против Колчака: «Мы с женой вышли из подвала в час ночи. Улицы были совершенно пусты… Вспыхнули фары притаившегося автомобиля, и дробный стук пулемёта залил пустую темноту. Мы прижались к стене, влипли в подъезд… Автомобиль поливал пулями улицу, как из шланга поливают её водой летом… Мы пустились бежать обратно. В подвале, сбившись в кучу, пережидали мы Гайдовское восстание».В начале 1920 года город заняли партизаны, установив перемирие с японцами. В марте Асеев читал стихи на митинге, посвящённом годовщине отречения царя, причём слово ему дал некий «чрезвычайно красивый, рослый и осанистый» молодой человек. Это был партизанский вождь Сергей Лазо, который уже в апреле того же года будет схвачен во время «японского выступления» и вскоре казнён. «Гибкий, высокий, с румяно-загорелыми щеками, ясными глазами, он был над толпой как пар от свистка, — звонкий, тревожно-радостный. Лазо был сама надежда всем прибитым к земле, втоптанным в неё тупой походкой пыливших по улицам японских патрулей», — писал Асеев. Японское выступление запомнилось ему репрессиями против местных корейцев: «Корейцы — рослые все, в большинстве красивые парни — шли по мостовой, подгоняемые сзади ударами и злобными толчками прикладов маленьких кривоногих своих конвоиров… Их сводили в штаб, где пытали всевозможными пытками: водяной, подноготной, огнём, ломанием костей».В 1921-м Асеев выпустил во Владивостоке сборник «Бомба», почти весь тираж которого сожгли интервенты. И неудивительно: стихи были ярко-«красными». Об интервентах поэт позже отзывался так: «Резиденты „дружественной державы“ уверенно ступали на его (Владивостока. — прим. DV) камни, как на принадлежащее им имущество. Все они гордо озирали эти сопки, хозяйственным взглядом примеряя, где устроиться поудобнее… Все они с жадностью вобрали бы и эти берега, и кедры, и уголь, и белку, и золото, и куницу».В том же 1921 году Владивосток захлестнула эпидемия чумы. Несмелов впоследствии иронизировал над приятелем: «Николай Николаевич храбростью не отличался. Во время чумы… он ужасно боялся захворать и не выходил на улицу без дрянного респиратора… Поэт не хотел понять, что щели между волокнами ткани для микроба шире, чем для человека — ворота, а следовательно респираторы — ерунда собачья». Ботинки, которые мы выбираемСоветская власть окончательно пришла в Приморье только осенью 1922 года. Асеев покинул Владивосток раньше — весной 1921 года, накануне очередного белого переворота («меркуловского»). Взяв удостоверение дипломатического курьера, выданное ему большевиком Романом Цейтлиным, и заодно документы редактора интервентской газеты «Владиво-Ниппо» (последние ему дал Несмелов, вспоминавший: «Асеев очень боялся ст. Гродеково, занятой остатками войск атамана Семёнова. Как журналиста, работавшего в левой газете, его могли, как он думал, „снять“, убить, избить, выпороть шомполами… Не знаю, прибегал ли Асеев к этой „липе“, но в Китай он проехал благополучно»), поэт отбыл в Читу.Дальнейшее известно: Москва, помощь наркома просвещения Луначарского, объединение ЛЕФ, кино (Асеев написал сценарий для комедии Льва Кулешова «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков» и титры для знаменитого «Броненосца «Потёмкина» Сергея Эйзенштейна), книги, Сталинская премия, переводы стихов Мао Цзэдуна… «Судьбоносной может оказаться любая мелочь», — сказал однажды писатель, исследователь Гражданской войны на востоке России Леонид Юзефович, размышляя о судьбах Асеева и Несмелова. Первый в какой-то момент хотел перебраться из Владивостока в Харбин, второй — вернуться в Москву. Однако проводник, который мог перевести Асеева через границу, забраковал его хлипкую обувь: мол, нельзя в такой идти по тайге. Другое дело — американские ботинки Несмелова на толстой подошве. Асеев предложил приятелю поменяться обувью, тот отказался. В итоге поэты поменялись судьбами — Асеев попал в Москву, Несмелов — в Харбин. Нельзя сказать, что это произошло исключительно из-за ботинок, но свою роль сыграли и они, считает Юзефович.Одна из новых улиц, недавно появившихся во Владивостоке на острове Русском, получила имя Николая Асеева. На доме по Пушкинской, 25, где жил поэт в свой владивостокский период, появилась его мемориальная доска. В этом же здании планируется открыть Музей литературы русского Востока.