Выставка в Санкт-Петербурге представила краткую историю фотоискусства в России
Когда Луи Жак Манде Дагер отправил в 1839 году дагерротипы с видами своей мастерской королевским домам Европы, это был поистине царский подарок.

Не только потому, что они стоили в среднем каждый 25 золотых франков, были раритетом, и счастливые обладатели первых дагерротипов хранили их как драгоценность в бархатных футлярах. Едва ли не важнее было, что эти иодированные серебряные пластины с нежной точной картинкой были последним писком технологических инноваций в создании изображений и вестниками нового века революции в медиа. Конечно, ни сам Дагер, занявшийся продвижением своего изобретения, ни Николай I, который был в числе его адресатов, этого не могли знать. Зато сегодня, когда эти три авторских дагерротипа 1839 года из собрания Российской Академии Художеств явились на выставке в петербургском Манеже "Фотоискусство. От дагерротипа до искусственного интеллекта", они произвели фурор и стали отправной точкой путешествия по фотографическому собранию московского "Центра визуальной культуры Beton".

Перефразируя название известной работы Вальтера Беньямина, можно сказать, что выставка "ЦВК Вeton" предлагает краткую историю фотографии в России. Впрочем, краткой ее не назовешь. На выставке, разместившейся на двух этажах в Манеже, - 600 авторских отпечатков почти 180 авторов. Кураторы проекта Ольга Мичи и Алексей Логинов подчеркивают, что их интересует не история технических изобретений (даром, что выставка начинается с дагерротипа, а финиширует работами, созданными при помощи искусственного интеллекта), не история фотографии как медиа, а история фотографического искусства.
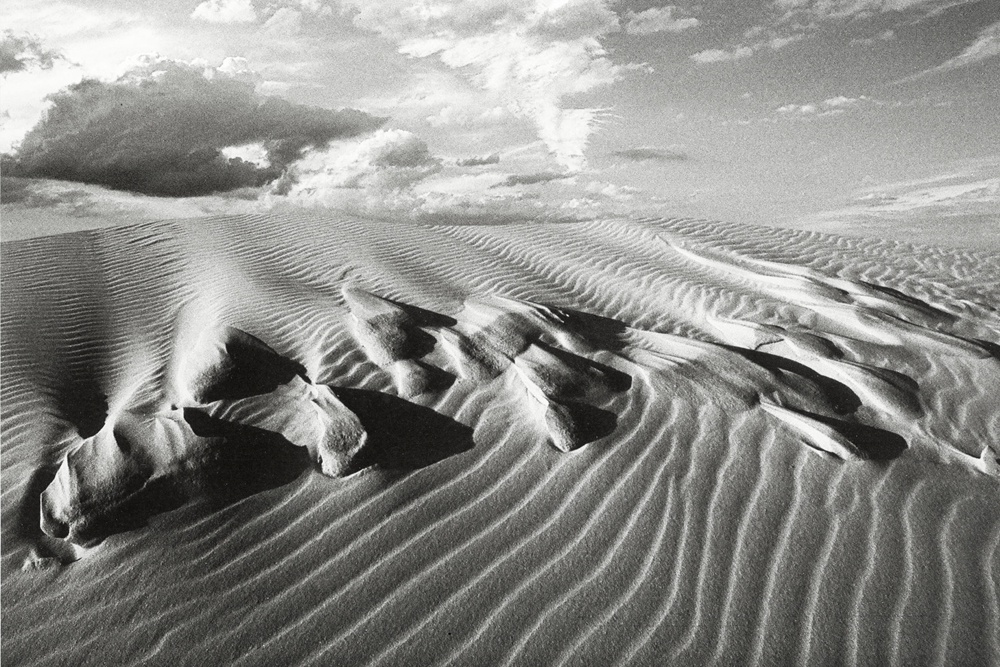
Признаться, отграничить одно от другого не так просто. Можно вспомнить Давида Октавиуса Хилла, который делал настенную роспись первого генерального синода шотландской церкви 1843 года и использовал для нее снятые им фотопортреты священников. Надо ли говорить, что художника Давида Хилла никто не помнит, зато историки фотографии без упоминания о нем не обходятся. С другой стороны, на петербургской выставке "ЦВК Beton" можно увидеть фотографии легендарного ленинградского фотографа Бориса Кудрякова (коллеги звали его не иначе, как Гран Борис) 1969 года. Авторский отпечаток его снимка ленинградского дворика, которому могли бы позавидовать итальянские неореалисты, снабжен подписью карандашом "Мягкое слово Вестибюль" и вписанной на полях работы Кудряковым же историей снимка. "1969 г. Март. Б. Кудряков. Фотоаппарат "Зоркий-С". Через 6,3 минуты меня уже вели в участок. "Гнида, снимаешь нас, а потом по Свободе нас опозорят и этот тоже…". Милиционеры могли не слышать ни о традициях "натуральной школы" в литературе, ни об итальянском послевоенном кино, ни тем более "о любви слова и изображения" в концептуализме… Они в фотографии видели "вещдок". Зато сегодня черно-белая фотография "вестибюля" с брутальной фактурой облупленных стен, окнами в полуподвал, кирпичной трубой на низкой крыше пристройки, видимо, когда-то предназначенной для прислуги, и ребенком, взобравшимся на кучу грязного снега, - вещдок существования прямой социальной фотографии в СССР. Как Борис Кудряков создал этот "внутренний пейзаж города", имея в распоряжении "Зоркий-С", отдельное чудо.
Кураторы выставки подчеркивают, что работают только с авторскими отпечатками. Для них уникальная авторская печать и есть то, с чего начинается искусство фотографии. С этим трудно поспорить, когда видишь фотографии "Живописного рельефа" Владимира Татлина, сделанные автором в 1913-1914 годах… И особенно, когда смотришь работы пикториалистов. Бесподобны портреты деревенского старика и странницы, снятые в 1914 году Николаем Свищовым-Паолой. Техника бромойля в отпечатке тут работает на жанр психологического портрета. Эти портреты, кажется, родом не из живописной традиции (даже передвижники предпочитали тратить время на людей известных), а из прозы Николая Лескова и Льва Толстого. Человек из народа тут предстает не как социальный типаж, этнографический тип, а как личность. Любопытно, что ту же печать использует Абрам Штеренберг уже в 1935 году, делая фотопортрет Анри Барбюса. Впрочем, и более привычные желатиносеребряные отпечатки фотографий Александра Родченко, или Василия Улитина впечатляют не меньше. Словом, что ни серебро (в смысле - фотографическое), то золото.

С другой стороны, что считать авторским отпечатком в репортажной фотографии? Снимки для газет и журналов ретушировали не только фотографы, да и печатали не обязательно сами. Так, среди раритетных фотографий на выставке есть замечательная работа Михаила Прехнера "Починка сети" 1935 года. На снимке - видны следы ретуши. Скорее всего, это не выставочный отпечаток, а тот, что шел в журнал или газету. Крестьянка в белом платочке, починяющая бесконечную рыбацкую сеть, занявшую всю плоскость кадра, словно античная Парка. Михаил Прехнер погиб в начале войны, великолепный этот снимок скорее всего из архива какого-то издания 1930-х. И понятно, что главное - это аутентичная печать этой работы в довоенные советские годы…

Аутентичность фотоотпечатка становится залогом уникальности. Фактически речь идет о возвращении фотографии той самой ауры, которую Беньямин связывал с сакральными истоками искусства. "Странное сплетение места и времени" - это ощущение дарит именно отпечаток.
Понятно, что демонстративный отказ кураторов проекта говорить о медиальных функциях фотографии, апелляция к "невыразимому" - это не только про символическую ценность авторской работы и ее реальную цену на рынке, но и про восстание профи против девальвации фотографии в цифровой вселенной массовых снимков на смартфонах.
Другой магистральной линией проекта "ЦВК Beton" становятся отношения фотографии и реальности. Отношения эти изменчивы, как сердце красавицы. Начинаются с верности натуре - в уникальных дагерротипах и раскрашенных фотографиях. Трансформируются в коллажах конструктивистов и советских плакатистов (например, Александра Житомирского)… Запутывают и пленяют в сюрреалистических "Мультиэкспозициях" Бориса Смирнова и фотографических рукотворных абстракциях Валентина Самарина, Николая Матренина, Евгения Малахина (он же знаменитый Старик Букашкин)… Растворяются в "Безжалостном Хроносе" Бориса Орлова… Прогнозируются в грозной орнаментальной утопии "Исламского проекта" группы АES+F…
Наконец, реальность, кажется, совершенно испаряется, в работе "Перекресток мультивселенной", созданной группой "ГрОМ" при помощи ИИ. Ее пространство задано культовой картиной "Полуночники" Эдварда Хоппера. Правда, вместо полупустого ночного бара на перекрестке улиц с парой посетителей перед нами - полуночники большого города в окружении то ли персонажей "Звездных войн", то ли мультсериалов и игр… Надо ли говорить, что именно отпечаток ("пигментная печать, пластификация") становится последним вещдоком реальности игрового мира, где все смешалось, от живописи до компьютерных игрушек. Есть отпечаток изображения этого мира - значит он существует.

Работа эта вынесена на обложку каталога выставки, словно подчеркивая, что и фотография сегодня оказалась на перекрестке "мультивселенной". Что ж, самое время - остановиться, оглянуться… Выставка в петербургском "Манеже" для этого правильное место.
Прямая речь
Алексей Логинов, куратор Центра визуальной культуры Beton:
Вы делаете акцент на уникальности фотографического отпечатка. А как быть с природой фотографии как тиражируемого искусства?
Алексей Логинов: Мы в "ЦВК Beton" к фотографии относимся как к авторскому произведению, а не как к изображению. Поэтому собираем авторские работы. Все современные художники придерживаются правила: до появления авторских отпечатков на арт-рынке, обговаривается тираж изображений. Если заявлено 6 работ, 7-й работы не должно появиться.
Но репортажные снимки печатаются в журналах и газетах.
Алексей Логинов: Конечно. Но мы не работаем с изображением.
Вы отделяете масс-медиа от фотографии?
Алексей Логинов: Я отделяю изображение от арт-объекта. Почему? Потому что только через арт-объект я могу судить о творчестве фотографа. Если я возьму один негатив и дам нескольким квалифицированным печатникам сегодня, все сделают разные работы. Я проверял. Мне неинтересно, как современный автор видит известную работу и как он ее воспроизводит. Мне интересно, как видел эту работу сам фотограф - в авторской печати. Как фотография печаталась в газете или журнале, это другая история. Она нас не интересует.
Вы возвращаете фотографии уникальность?
Алексей Логинов: Если речь об авторском отпечатке, то да.
Как создавалась коллекция?
Алексей Логинов: Я начал ее собирать лет 35 назад. Потом мы встретились с Ольгой Мичи. Мы создали вместе Центр визуальной культуры Beton. Моя коллекция вошла в коллекцию Центра, которая начала разрастаться. Мы начали более активно работать, встречаться с наследниками, покупать на аукционах, в том числе за рубежом. Сейчас многие наши работы привозим из-за рубежа.
Речь идет о создании фактически музея?
Алексей Логинов: Да, музея фотографии.
Вы собственники коллекции?
Алексей Логинов: Да.