Спектакль "Танцплощадка" в MOÑ: формат до 18 и после 50
Режиссер Дмитрий Крестьянкин организовал театр горожан в содружестве с хореографами

На театральной площадке MOÑ петербургский режиссер Дмитрий Крестьянкин показал спектакль "Танцплощадка". Участвуют в нем подростки младше 18 лет и горожане старше 50, с разным хореографическим опытом — от профессионального до нулевого. Автор многочисленных документальных и инлюзивных проектов хотел создать на сцен батл поколений, но в итоге перешел в проверенный формат историй, многие из которых оставляют зрителя в недоумении. Подробнее — в материале "Реального времени".
От вога до фламенко
Дмитрий Крестьянкин окончил режиссерский факультет РГИСИ, сейчас руководит петербургским "Плохим Театром" (вход на его спектакли бесплатный). Также среди его проектов — "Театральный дом" (для ребят с опытом сиротства), "Особый театр" (это лаборатория для слепых и слабовидящих). Много у него документальных проектов и, конечно, театр горожан, в котором участвуют непрофессиональные актеры.
MOÑ, который уже успешно ставил по опенколлу спектакли "Чын татар" про самоидентификацию и "Педсовет" про учителей, основательно взялся за танцы. Вообще, там любят танцевать и зачастую заканчивают спектакли приглашением зрителей присоединиться к действию.
В "Диалоге" Нурбек Батулла регулярно переходит с монологов на язык движения. В "15 172" Ильдар Алекбаев рассказывает, каково это — жить с ВИЧ. Спектаклем-стендапом называет "Венеру-1" Венера Галимова. Пластический спектакль "Отстань от себя" с элементами инклюзии говорит о теле как уникальном сосуде.
Крестьянкин взялся за танцы, поскольку сам это делать не умеет. Выбрал простые критерии, по возрасту: либо младше 18, либо старше 50. И взял всех, кто подал заявки.

Пять хореографов провели мастер-классы: Эдуард Хабибуллин (брейкинг), Гульсина Галимуллина (фламенко), Алсу Магсумзянова (татарский народный танец), Венера Галимова (контемпорари) и Регина Ланвин (вог). После чего герои выбирали стили, и с помощью преподавателей была создана серия номеров о личных историях, объединенных в спектакль. Крестьянкин называет их сорежиссерами. Были среди набранных те, кто танцует многие годы, а также те, кто не делал этого никогда. Среди участников — всего трое мужчин.
— Я написала свою историю, — описала процесс работы одна из участниц. — Регина посмотрела на меня и спросила: "Ты ведь прожила историю, она тебе сейчас волнует?" Нет, говорю, я ее 10 лет назад отпустила. "А давай поговорим о том, какая ты сейчас". И она говорила со мной около часа, как психолог.
Опыт хореографов понятен, поскольку сейчас методика, когда в танцкласс приходит новичок не за красивым номером, а самовыражением, широко распространена. И казанские эксперты также учатся с этим работать.

Ничего не говори, просто танцуй
Крестьянкин собирался поговорить о двух поколениях и даже устроить батл, потому актеры сидят по обе стороны сцены как команды "Опыт" и "Юность" и даже устраивают в начале два массовых выхода. Кстати, почему сидят? Разве на танцплощадке сидят?
Но в конце текст на стене сообщает нам, что сражения друг с другом не получилось, все люди сражаются с внутренними проблемами...
При этом спектакль начинается энергично, очень громко, с песен Джеймса Брауна, после чего под Bonobo молодые танцоры показывают эпизод "День сурка". Он обнажает главную проблему спектакля. Хореографы смогли упаковать таланты и недостатки участников в движения, с реквизитом и без, но темы, которые либо озвучивают актеры, либо которые пишутся на стене, выглядят зачастую самыми очевидными.
Да, многие страдают от ежедневной рутины, но разве это настолько удивительная и секретная мысль, чтобы к ней можно было эмоционально подключиться?
При этом интересные эпизоды связаны именно с возрастной разницей. К примеру, женщина по имени Марина сообщает, что ей через месяц исполнится 65, но ей не нравится термин "возраст дожития", она снимает шаль, открывает рваные джинсы и прекрасно двигается.

Эндоскопия и скотч
Если говорить об эпизодах с опытными танцорами, то они срабатывают по-разному. Есть номер "Просто танец", про который просто нечего сказать, такие можно увидеть и на отчетных концертах студий. Есть два бывших артиста Госансамбля песни и танца, чья драматичная история с материнством и болезнями — скорее добавление, но не основа их красивого номера.
Есть танцующий эндоскопист и гастроэнтеролог Айрат, который давным-давно прожил тот факт, что выбрал кабинет, а не танцкласс, после чего он погружает зрителя в долгий татарский танец, словно на сцене ДК. Позже узнаешь, что Фазылзянов еще в 2011 году внедрил в свою практику танцевальную терапию.
Хорошо работает актриса Таисия. Приклеенная к стене скотчем, она сходу признает, что попала в детстве в хореографическое по настоянию мамы, испытывала насмешки из-за своей фигуры, а потом бросила учебу. Но при этом опыт никуда уже не спрячешь — она отлично танцует.
Многим людям явно есть что сказать, но в спектакле их откровения не шагают дальше фраз, что учитель имеет право на ошибку, а бабушка — это тепло. А потому зрители награждают самыми громкими аплодисментами массовые номера (особенно хорош вог), но порой просто не понимают, закончился эпизод или нет, была ли здесь эмоциональная точка?
А завершается серия номеров мыслью, что человек — не инструмент, на котором можно легко сыграть. И, конечно, что танец — это любовь.
Одна из героинь — редактор Гюльнара Фазлиахметова. Она играла в спектакле "Чын татар", как режиссер с Ксенией Шачневой ставила "Представление зрителей" в театре Камала. После показа она предлагает еще один проект, в котором хотела бы поучаствовать — про пение, поскольку это она и не умеет делать. Начинаешь думать, что это уже не театр горожан, куда человек приходит, чтобы сказать что-то важное, а некий кружок по интересам.
— Ты видишь необработанную энергию человека, который, если удастся хорошо поработать с режиссером, остается в свободе тела. Это самое главное, — отметила театральный критик Кристина Матвиенко.
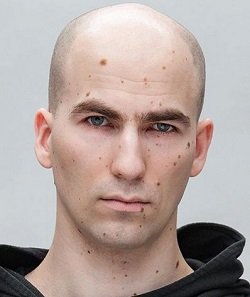
И добавил, что в течение двух показов уже возникли идеи новых номеров. Так что, вероятно, спектакль будет повторяться, меняться и улучшаться.